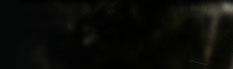Б. Анибал (Б. Масаинов)
Возникая порой по самым незначительным поводам и следуя одно за другим, воспоминания образуют длинную цепь, приковавшую нас к прошлому. Безразлично, с чего начать, за какое звено браться. Я живу среди книг, и книги первыми открывают мне дверь былого.
Моим отцом был Алексей Никифорович Масаинов, купец из города Данилова. Мать – Вера Александровна (урожденная Баранова) из Царского Села. Моя мать училась в Царскосельской гимназии. Она особенно любила Пушкина не только за его стихи, которых много знала до старости наизусть, но и потому, что родилась в Царском селе, где жила до замужества, там, где САМ он учился, и где еще были живы не только предания о НЕМ, но и люди, видевшие ЕГО своими глазами. Одно из ее самых светлых и торжественных воспоминаний юности, которые запоминаются навсегда и потом сияют, как звезды в сумерках жизни, также связано с Пушкиным, посещение Царскосельской гимназии Александром II. Мать вызвали отвечать, как одну из лучших учениц и она, волнуясь, читала царю «Полтаву», память у нее была прекрасная, до седых волос она помнила: «Полки ряды свои сомкнули, В кустах рассыпались стрелки. Катятся ядра, свищут пули, Нависли хладные штыки…»
Парадный приезд красивого царя, его блестящая свита, еще детская восторженная любовь к нему, торжественная картина сражения, нарисованная Пушкиным и хороший прием ее чтения Александром II – все это слилось для моей матери в то светлое и радостное, что она запомнила на всю жизнь и о чем любила рассказывать в хорошие минуты.
- Только я смущалась, когда читала, говорила она, - у меня была очень высокая грудь, и мне было неловко царя…
Обычно она рассказывала об этом за шитьем в своей спальне, когда, вероятно, однообразные, механические движения и тишина располагали к воспоминаниям. Рассказывая, она поглядывала поверх очков на меня, усевшегося с ногами в кресле, и снова склонялась к работе. Шила она как-то по-своему, на колене, положив ногу на ногу, что допускала только при работе, а вообще считала неприличным и делала замечания моим сестрам, когда они садились так. У матери были сочинения Пушкина в одном томе, выпущенные к открытию памятника поэту. Эту книгу, в коричневом переплете с красным корешком, с портретами Пушкина в шинели, спущенной с одного плеча и декольтированной Натальей Николаевны мы, дети, называли «мамин Пушкин» и все учились по ней. Куплена она была матерью уже после замужества, очевидно, в воспоминание того светлого дня.
Обычно у нас выписывалось три, четыре газеты, пять-шесть журналов, но мать их не читала и как-то не интересовалась ими. Она выписывала для себя маленькую газетку «Свет» и читала приложения к ней - романы Пазухина, Бебутовой, уголовно-авантюрные, читала, очевидно, с интересом, но не без некоторого смущения за такой сорт литературы. Потом, помню, ей нравился религиозный роман Марии Корелли «Варавва». Из классиков, кроме Пушкина, который всегда был для нее первым и неизменным, мать любила Тургенева, Гончарова, «Войну и мир» и «Анну Каренину». Поздний Толстой с его религиозными исканиями, противными ее христианству, для нее не существовал. Более того, она его не любила и даже называла не по имени, а просто 2этот», как иносказательно в те времена верующие называли черта, чтобы не поминать вслух имени нечистого.
К Толстому-проповеднику у нее и у отца было одинаковое отношение. «Толстовство» они решительно осуждали, считая великим грехом то, что Толстой своим учением, переделкой Евангелия как бы противопоставлял себя Христу – нашему Богу. Но это не останавливало отца выписывать для детей посмертные сочинения Яснополянского мудреца, как только они вышли. Обычно, не читая беллетристики, он читал «Отца Сергия», не соглашался с автором и говорил – «Вот Толстой умный, а дурак». Отец выписывал и покупал для нас книги, журналы, но сам был далек литературы, интересовался ей чисто случайно и тут же забывал то, чем только что интересовался. Говорить, как мать, о книгах он не мог, он ничего не знал, а то, что когда-то знал – забыл. Он был странный, рассеянный к окружающему, внешнему человек и очень сосредоточенный на своем, внутреннем. Часто, например, за обедом, он ел и пил машинально, не слыша, что ему говорят. В противоположность матери, которая при своем постоянстве никогда не меняла своей газете «Светику», как она ее назвала, отец читал и «Русское Слово», и «Петербургскую газету», и «Биржевые Ведомости», и «Торгово-промышленную газету». Причем, когда занимался этим дома, усаживался один под лампой в столовой или кабинете и читал до тех пор, пока не начинал дремать. Такое чтение почти всегда вызывало в нем досаду на чиновников, бюрократию, на министров. «До чего довели Россию!» - говорил он, покачивая своей черноволосой головой, - «Вот и приходится немцам кланяться». Презирая чиновничество, он, торговый человек, верил только в торговлю, в русского купца, в промышленника. Не получив почти никакого образования, отец был убежден, что всей жизнью движет экономика. Свои торговые дела он вел успешно и, начав почти ни с чего, развил большое дело по оптовой продаже муки, чаю, сахару. Как представитель крупных торгово-промышленных фирм, он работал по всему Северу и Европейской России. Мне не понятно, как он, при своей рассеянности, мог так широко развернуть дело. Впрочем, работал отец много, весь, уходя в него, и был деятелен, не сидел на одном месте, любил покупать, строиться, переиначивать, переделывать, любил лошадей и природу, соединяя в себе противоположности: живость и задумчивость, уход в себя от окружающего, которое он же сам вокруг себя с семьи создавал. Вот он, сутулясь и глядя под ноги, задумчиво идет по улице, мчится на вороном рысаке на вокзал к поезду или сидит, откинувшись в кресле, держа пенсне двумя пальцами между стекол, а на большой лоб свисает черный клок волос. В театрах он обычно дремал, опаздывая к началу, и не мог последовательно рассказать, что видел. Вообще он не умел рассказывать, его рассказы были отрывочны, как будто в его памяти возникали только отдельные куски.
С детьми отец был строг и рассеян, как-то не понимал их и не умел к ним подойти. Маленький, я его боялся. Когда дети вырастали, он относился к ним с живым интересом, особенно к старшим, и баловал дочерей.
В противоположность отцу, его отрывочным и сбивчивым рассказам, мать рассказывала хорошо, ясно и последовательно. Побывав в Ярославле, Вологде, Москве или Петрограде, где учились дети или жили родственники, она дома за ужином обычно рассказывала все, что ей удалось там повидать в театре или кинематографе. Нечастые поездки на курорты – в Крым или на Кавказ, на Рижское взморье, давали новую пищу ее рассказам о людях, городах, природе, но она всегда говорила – «в гостях хорошо, а дома – лучше», и, как домоседка, возвращалась домой.
Внутренний мир матери представлялся мне ясным, стройным, но холодным. Внутренний мир отца – хаотичным, земным и ярким, с провалами. Обычными слушателями рассказов матери за ужином были – я, старшие сестры и брат, отец если и слушал, не думая о чем-то другом, то тут же все забывал.
Мать любила рассказывать особенно о том, что видела в только что вошедшем в моду кино. «Кинематограф» или «Синематограф», как его тогда называли, был нов и необычен. Матери он нравился, по-видимому, своей живостью, разнообразием, чудесным оживлением картин старинного волшебного фонаря. В нашем городе Данилове синематографа в то время не было, лишь изредка, как диковина устраивались сеансы кем-нибудь заезжим, в клубе или зале реального училища. Я помню эти первые сеансы. Когда потухал свет, по полотну рассыпая рваные искры, появлялось изображение издалека идущего человека, все вырастая, он шел прямо на меня. Наконец, на экране оставалось столько его лицо – огромное, страшное и все увеличивающееся. Я боялся, что вот сейчас оно сойдет с полотна и очутится в зале, чудовищное, раздутое до невероятности, но, заполнив собой весь экран, оно исчезало. Начиналась новая картина. Старый французский гренадер стоит на часах в треуголке, заложив одну руку за борт сюртука. Появляется император. Седоусый ветеран салютует ему ружьем. Наполеон останавливается, что-то спрашивает, хлопает гренадера по плечу и прикрепляет к его мундиру, снятый со своей груди, орден Почетного Легиона. Гренадер в восторге. Наполеон улыбается, зрители в умилении. Я осторожно, чтобы не сделать перед чужими неловкости, задаю матери вопросы, она терпеливо разъясняет.
Из своих поездок мать и отец привозили нам игрушки, книги, понемногу, скромно. Они нас не баловали. Игрушки ломались, подбор книг был случаен, и, я не помню среди подаренных мне книг такой, которую я бы полюбил в детстве.
Навсегда запомнился мне «Принц и нищий». Откуда появилась эта книга, я не знаю, ее откуда-то извлекла моя няня – Наталья Дмитриевна Пырина, или, как мы ее звали, «Пырка». Она была страстная любительница чтения, приключенческих и чувствительных романов, сказок, необыкновенных повестей и, притом, отличная рассказчица. Если мать рассказывала литературно, чувствуя силу русского языка, любила пословицы, поговорки и меткое русское словцо, то Наташа рассказывала попросту, по-деревенски, утирая рот рукой, образно, переживая все горести своих героев. Прочитав что-нибудь интересное, она охотно рассказывала прочитанное, как бы возобновляя его перед своим внутренним взором и оттого получая новое удовольствие. «Принца и нищего» она часто рассказывала и читала вслух. На эти вечерние чтения в детской, приходила снизу, управившись в кухне, Федоровна. Здоровенная, широкая в кости кухарка напоминала каменную бабу с кургана. Она любила выпить и держала своего седенького благообразного мужа Кириллыча в ежовых рукавицах, возвышаясь башней над его тщедушной фигуркой. Надев очки в белой оправе, и спустив их на кончик носа, Наташа читала медленно, останавливаясь и разбирая трудные слова и отставив от себя книгу. В чувствительных местах ее голос дрожал, и на глазах показывались слезы. Федоровна подносила к глазам большущий кулак и дергала носом. Я крепился, с кровати младшей сестры раздавался голос: «Не читай больше, мне его жалко!» Она не могла слушать рассказа о терзаниях всеми гонимого принца, не давала Наташе читать и, поэтому чтенье начиналось, когда она засыпала. Иногда, неожиданно проснувшись, она требовала закрыть книгу, как будто это прекращало мученья мальчика.
Прослушав несколько глав, мы с Федоровной начинали клевать носами, но Наташа, страстная читательница, не могла оторваться от книги даже глубокой ночью. Утром она рассказывала прочитанное нам.
Еще мы читали «Пещеру Лейхтвейса» - занимательный роман о благородном разбойнике. Я не забуду этих вечеров за черным, изрезанным ножами столом, с медной лампой на фарфоровой ножке. Герои жили вместе с нами, мы их чувствовали рядом, разделяя все их печали и радости. В том тихом и мирном существовании, которое мы вели, интересная книга являлась событием, разнообразившим и наполнявшем жизнь. Наташа знала множество сказок, занимательных историй, рассказывала и пересказывала их нам с сестрой не однажды. Уже взрослый, я опять слушал ее сказки, когда Наташа рассказывала их моей дочери, и был заинтересован не меньше, чем маленькая дочь. Этот редкий дар живого воображения, перевоплощенья то в бабу-ягу с грубым голосом, то в Крошуточку, тоненько попискивающего, она сохранила на всю жизнь. Когда появилась пинкертонвщина, она увлеклась ею, но всем сыщикам предпочитала благородного Шерлока Холмса, рассказывая о его приключениях в детской, а, когда я очень приставал, на кухне, стряпая обед.
Ее положение в доме постепенно упрочивалось. Поступив нянькой ко мне и младшей сестре, она готовила ответственные блюда, а те, что попроще, делала кухарка. Страстью ее жизни были: любовь к нам, к книгам и бережливость. Рано овдовев, она еще молодой, поступила к нам, и с тех пор, до глубокой старости была с нами, срослась со всей семьей, нянча не только нас, но и наших детей. Ее любовь, привязчивость к детям, сказались и в том, как ей удавалось благополучно выхаживать слабых индюшат, необычайно нежных и болезненных в цыплячьем возрасте.
Она была ласковая и приветливая в гораздо большей степени, чем наша мать, и в семье ее любили. Над ее слабостью и любви к лекарствам, страхами перед несуществующими болезнями, мы посмеивались, распевая сочиненный братом стишок: «Доктор, батюшка, спасите, Смерти до смерти боюсь!»
Иногда ей хотелось съездить в свою деревню, почему-либо ее не пускали, тогда, охая и прибедняясь, привередничая, как это называли мы, она сказывалась больной, и уезжала. Мать сердилась, но, соскучившись по ней, встречала Наташу хорошо. Ее возвращение несколько напоминало возвращение библейского блудного сына. Нам она привозила из деревни гостинцы – раскрашенные ядовитой красной краской мятные пряники, твердые как фанера, которые нам очень нравились, а вместе с ними – множество рассказов о деревенском житье-бытье, о свадьбах и смертях, о колдунах, о зимних посиделках, беседах с лучиной за которыми девицы прядут лен, слушают сказки, а парни щелкают орехи.
После горько оплаканной смерти младшей сестры Любочки, всю свою любовь Наташа перенесла на меня. Бывало, долго бежала, плача, за поездом, увозившим меня в другой город учиться, или прикрывала собой от отца и матери, когда те наказывали за какую-то провинность и часть очередной удар, а отец ударял больно, падал на ее руки. Не имея своих детей и семьи, она быстро привязалась и любила мою дочь, как и меня. Когда родители уезжали – дом поручался ей. С ней же нас отправляли на кумыс, на дачу, и она берегла нас и хозяйскую копейку, также как и свою, она была бережлива, собирала самые разнообразные вещи, которые выбрасывались как ненужные, и в ее сундуке и шкафу можно было найти и пахнувшую нафталином конфетку, и пузырек с затейливой пробкой, кусочки кожи и булавки с бисерными головками.
Мы знали ее семью. Седобородого, стройного тятеньку в черном сюртуке, сапогах и картузе, высокую мать, которая еще в день своей смерти, 82 летней старухой, носила дрова, двух братьев-поваров Колю и Мишу, живших в Петербурге, а в особо торжественных случаях, готовивших у нас и робкую сестру Надю, похожую на ухудшенное издание Наташи, какую-то темную и коричневую, как будто сошедшую со старинной иконы.
Три кровати, моя, Наташи и больной сестры Любочки, белели на голубых обоях стен. Около последней стоял маленький круглый столик, уставленный лекарствами с длинными синими и красными ярлыками рецептов. На столе, приткнутом в углу, валялись игрушки. На черном столе, изрезанном и исцарапанном перочинным ножом, стоявшем в простенке между двух окон, лежали нянькины очки, связанные около переносицы тонкой бечевкой и книжка «Принц и нищий», заложенная широкой голубой лентой. В соседней, маминой, комнате Старшая сестра Сима ходила с больной Любочкой, завернутой в одеяло, и тихо разговаривала. Когда я вошел, Люба устало открыла большие серые глаза и, глубоко вздохнув, взглянула в окно. Бледное, болезненное лицо, спутавшиеся золотистые волосы и тяжело поднимающаяся грудь бросились мне в глаза, и я, как будто снова, увидел свою сестру, сильно изменившуюся и совсем не похожую на ту, какой я знал ее прежде. Больно сжалось сердце и, чтобы скрыть навернувшиеся слезы, с напускной развязностью спросил: «Ну, что, брат, как ты…» Люба улыбнулась болезненной улыбкой и ничего не сказала – нарыв в горле мешал говорить. Чувствуя себя неловко, я убежал в детскую и раскрыл окно. А вдруг она умрет? Умрет? И острое чувство жалости вошло в меня. Захотелось для нее что-то сделать, приласкать, заставить хоть на минутку позабыть о болезни. Сбежав вниз по лестнице и напялив красную кепку, я побежал в магазин к отцу. Отец сидел за большим черным столом в перепачканном мукою пальто и пенсне на большом орлином носу. Я попросил петуха с хвостом. Схватив петуха, выбежал из магазина. Дома я застал сестер в той же комнате. Люба улыбнулась, взяла в руки игрушку, повертела и, тяжело закрыв глаза, уронила петуха на пол. Время до вечера тянулось долго. Ждали маму, уехавшую три дня назад в Ярославль. Она приехала и, переодевшись, взяла Любочку себе на руки, и все время до ужина, ходила с ней и разговаривала тихим голосом. На другой день, вечером, Любу соборовали. Приходил кладбищенский священник отец Василий. Шепотом разговаривал с мамой в зале. Я, притаившись на диване, слушал. Зало было большое и неуютное. Большое трюмо отражало мебель, крытую белыми полотняными чехлами. За окном догорал день. Последние его отблески играли на высокой белой печке в углу и на толстых тяжелых ножках рояля. Отец Василий перед образом Спасителя надевал епитрахиль. Мама что-то говорила взволнованным шепотом. Батюшка слушал, глядя поверх золотых очков, и шуршал рясой, пахнувшей чем-то особым - священническим. В спальне зажгли свечи. Маленькие желтенькие огоньки плавали в синих кольцах пряного ладана. Отец Василий спросил Любу, может ли она принять причастие. Люба кивнула. Дома все усердно молились, придавленные огромностью момента и со страхом и надеждою поглядывали на больную, Папа и мама на коленях, кланялись в ноги и долго не отнимали лбов от пола, шеи краснели и наливались кровью, а на чистом полу появились отпечатки пальцев, Когда ушел священник, в доме сделалось тихо и торжественно. Все ждали чего-то важного. Ходили на цыпочках, разговаривали шепотом. Ужинали молча, стараясь не звенеть посудой. Медленно тянулись дни. Подавленность царила во всех комнатах. Приехали из Ярославля сестры Маня и Надя, но не внесли свежую струю в грозовую атмосферу. Они сразу сделались такими же, как все. Все ждали, что обрушится что-то непоправимое и ужасное. И этот день пришел, такой же яркий и солнечный как все, но ужасный. В этот день, шатаясь по задним улицам, я привел белоголового мальчишку в синих с белыми заплатами портах. Звали его Митькой. На заднем дворе, на свежей зеленой траве, мы гоняли крокетные шары. К нам подошел магазинный мальчик, остановился и, помолчав, сказал: «Боря, иди наверх, Люба умерла…» Сразу интерес к игре пропал. Смутное беспокойство овладело мной. Я пошел к парадному крыльцу и в дверях столкнулся с приказчиками. Они выносили на улицу Любину кровать. «Это зачем?» «Любовь Алексеевна приказали долго жить». Все еще не веря, я поднялся и вбежал в спальню. На нянькиной кровати, сложив крестом руки поверх покрывавшей ее простыни, лежала Люба. На высоком желтом стуле, рядом с ненужными теперь лекарствами, сидел грузный и тяжелый, сразу опустившийся отец и без всякого выражения глядел на черный мячик пианино, отражающийся в лакировке пола. «Ты зачем здесь?» - спросил отец, - « Кланяйся в ноги, целуй в лоб». Когда мои губы коснулись уже холодного лба, я вздрогнул и попятился. Перекрестившись, я вышел, все еще не понимая, как это могло случиться. В шкафной комнате на большом диване, обитом чертовой кожей, под зеркалом сидели три сестры и плакали. Слезы, светлые и крупные, текли по мокрым щекам и светлыми капельками дрожали на искривленных подбородках. Глаза и кончики носов были красны. Я постоял и вышел. В саду, покусывая березовый листочек, задумался, и слезы хлынули из глаз. Я увидел черную, холодную пустоту и понял, что потерял. Я вспомнил про ее кукол и про то, как не дал ей поиграть своим автомобилем.
Утром с кучером Иваном Ямщиковым мы поехали на вокзал встречать сестру Веру, вызванную из гимназии телеграммой. «Умерла?» - спросила Вера, раскрывая зонтик. «Да»,- сказал я, целуя холодную румяную щеку. Домой ехали молча, и никто не вышел, как обыкновенно, нас встречать. В доме появились какие-то старушки, монашенки, шептавшие мама что-то тихим шепотом. Они глубоко вздыхали и опускали глаза в землю. Столяру заказали гроб. Сестры шили белый длинный саван. Папа, мама и я ходили на кладбище смотреть могилу. В кладбищенской площадке было две могилы – Шурочки, брата, и какой-то бабушки, которую я не помнил. Потом отец и мать сидели на маленькой железной скамейке и тихо переговаривались. Пришли попы. Служили в зале. Зеркала были завешаны простынями. Люба лежала вся в белая в белом глазетовом гробу. Желтым тусклым огнем мерцали свечи около гроба. Мама, когда поднималась с колен, придерживалась за крышку рояля. Все четыре сестры стояли на коленях сзади, в дверях толпились магазинные служащие, кухарка, горничная и две няньки. Приехала из Вологды толстая и добрая тетя Луша. Мама слушала ее, а потом рассказывала в очередной раз, как умерла Любочка. «Вижу я, дело плохо, и раскрыла книгу отца Серафима, читаю о его кончине – попалось, и думаю, умрет Люба. А потом проснулась ночью, темно еще было, и вижу, в углу перед киотом стоит какая-то тень и молится, кладет земные поклоны. Пригляделась – отец Серафим. Вскочила с кровати, подбежала к киоту, а там никого нет. А днем она умерла».
Утром разбудили рано. Гроб вынесли из дому. Без шапок шли в собор. Там гроб поставили на две табуретки. Отец протоиерей начал. Служили в летнем соборе, было холодно и сыро. Гулко откликались шаги. Народ толпился, ближе подвигаясь к гробу. Стали прощаться. Шли к кладбищу беспорядочной толпой. Сзади ехали лошади. В красной с белым кирпичной ограде кладбища тишина. Вокруг колокольни носятся стрижи. Тянутся серебристые паутинки, и город тонет в золотой дымке. Горят купола церквей. Ограды, памятники, кресты белые и красные, чугунные надгробные плиты со смешными надписями. В соборе и здесь, на колокольне звонят, уныло и тоскливо тянуться удары. Опустили гроб, в ящик стали кидать землю. Потом зарывали заступами. Домой брели нехотя, поодиночке. Попы ехали на лошадях, папа с мамой тоже. В столовой был накрыт стол. В зале отец протоиерей на ложечке подносил всем кутью. Обедало много народу. Все купцы города важно и сановито восседали за столом. Они с постными лицами говорили о поднятии цен на крупчатку. Попы жадно чавкали, и кресты их позвякивали о тарелки. Я поднялся в свою комнату. На полу валялись обрывки бумажек, кровати были неубраны, одна штора спущена. Похоже, было на то, как будто кто-то уехал. Пусто и неуютно. А на столе с игрушками тоскливо лежала маска из папье-маше.
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
Семья была большая, десять человек детей. Мы редко собирались вместе. Старшие учились по разным городам: Вологда, Ярославль, Петербург, Москва, и приезжали только на каникулы. Я плохо помню своих братьев и сестер в детстве. Промежуток между самым старшим братом и мной составлял около двадцати лет. Эта возрастная разница со старшими, и редкие приезды домой более близких мне по возрасту создавали вокруг меня пустоту. После смерти младшей сестры Любочки, я рос один с Наташей и матерью. Жившие дома старшие сестра и брат были далеки.
Уже потом, когда я стал подрастать, возрастная разница между всеми нами сглаживалась, и мы стали ближе друг к другу. Почувствовали, что все мы братья и сестры. К тому времени устроилось материальное благосостояние семьи и, съехавшись со всех городов, домой на каникулы, мы весело садились за большой, раздвинутый специально к нашему приезду стол. У каждого было свое место, тем дальше от матери, чем он был старше. Ярко освещенный стол, искры огня в стекле и фарфоре, сияние белоснежной скатерти и наше молодое оживление, почти постоянное присутствие кого-нибудь постороннего из товарищей братьев. Однажды неожиданно все дети съехались и долго жили дома, сблизившись и сдружившись между собой. Это было во время революции 1905 года. Учебные заведения прекратили занятия. Железные дороги стали. Сестер привезли из Ярославля на лошадях. Из Рыбинска, тоже на лошадях, в жестокий мороз, приехал брат Александр – после меня самый маленький в семье. Его, закутанного в шубы и платки, привезли знакомые купцы, и он, тогда приготовишка, проделав на лошадях в морозы самый длинный путь, чувствовал себя героем. Этот брат, старше меня на четыре года, был мне всех ближе, несмотря на то, что изводил и дразнил меня постоянно. Очень изобретательный на всякие проказы, насмешки и прозвища, он, напроказив, менялся кроватями с ничего не подозревавшей сестрой.